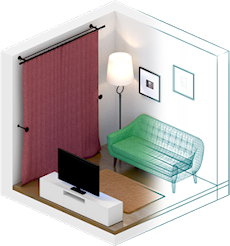Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Борис Миронов написал, пожалуй, главную научную работу к столетию русских революций 1917 года. Трехтомник “Российская империя: от традиции к модерну” одновременно стал фундаментальным трудом по исторической социологии, антропометрической, экономической и демографической истории России. Впрочем, не все коллеги ученого разделяют его оценки.
Но Борису Николаевичу не привыкать идти наперекор. По сути, он тоже в чем-то революционер…
– Вы ведь, Борис Николаевич, марксист по рождению?
– Да, вот так судьба сыронизировала. Маму, уже беременную мною, в начале 1942 года эвакуировали из блокадного Ленинграда в Саратовскую область. Там она попала в Марксштадт. В середине восемнадцатого века его основали приглашенные в царскую Россию бароном Фредериком Борегардом де Кано немецкие колонисты. Сначала это был Екатериненштадт или Баронск, потом Екатериноград…
Сейчас город называется Маркс. Можно сказать, я марксовец, так называются местные жители.
– Где-то неподалеку и Энгельс с энгельсовцами?
– Как и положено, совсем рядом – шестьдесят километров вверх по Волге.
– Кажется, убежденным марксистом вы не стали?
– Факт. Не знаю, правда, к счастью или к сожалению.
Хотя поначалу всё складывалось в духе марксистско-ленинской идеологии. Я был комсомольским активистом в школе и в Ленинградский университет поступил на отделение политэкономии экономического факультета. Все шло к тому, что буду твердым последователем автора "Капитала". Но случилась незадача. В конце второго курса меня отчислили из ЛГУ за… антимарксистские взгляды.

– Однако!
– В диссидентских организациях я не состоял и антисоветской деятельностью не занимался. Дело в другом. Я сделал доклад на семинаре и написал курсовую работу, где опровергал закон Карла Маркса об абсолютном и относительном обнищании пролетариата при капитализме. По классической доктрине именно это и создавало революционную ситуацию, а я не согласился с исходным тезисом.
Напомню, на дворе стоял 1961 год. Какие первоисточники были доступны студенту? Пользовался теми сведениями, которые сумел найти. В спецхран библиотек меня не пускали, западную прессу достать не мог, поэтому смотрел разные статистические сборники, сравнивал, сопоставлял. У меня никак не получалось, что по мере развития капитализма шло обнищание рабочих. Концы не сходились с концами.
Открытие сильно удивило, и я решил поделиться наблюдениями с сокурсниками и преподавателями. Не подозревая, что это если не антимарксизм, то явно ревизионизм. Кроме того, я позволил себе усомниться, что источником прибавочной стоимости являлась эксплуатация рабочих. Тезис показался неубедительным. И я опять не промолчал. По наивности. Так меня воспитали в рядах пионеров и комсомольцев: говорить честно и прямо.
Закончилось все вызовом к декану экономического факультета Воротилову. Виктор Андреевич сказал: "Знаете, молодой человек, вы нам не подходите. Пишите заявление".
Уходить добровольно я отказался, а формальности соблюсти требовалось. Со мной пытались работать, стараясь переубедить, но я упорно не признавал вины и продолжал упорствовать, веря в торжество истины. Поняв, что с этим правдорубом не договориться, меня… завалили на зачетной сессии, не аттестовав по четырем предметам, в том числе по физкультуре. Хотя до того я был отличником. Когда у человека столько задолженностей, его не допускают до экзаменов и отчисляют за академическую неуспеваемость.
По сути, мне выписали "волчий" билет, с которым в любой другой вуз соваться смысла не имело – с такой строкой в анкете никуда не взяли бы. Я стал бороться за свои права, пошел по инстанциям. Деканат, ректорат, райком партии… Меня гоняли по кругу и везде отказывали.
Мама уже сушила сухари, опасаясь, что эти хождения закончатся высылкой из Ленинграда куда-нибудь в дальние края. Тут подоспела повестка из военкомата, которому оперативно сообщили о моем отчислении, потом вторая… Я понимал: со дня на день забреют в армию, и тогда – всё, большой привет университету. Последний шанс – разговор с ректором Александровым, членкором Академии наук, известным математиком, впоследствии – академиком. Мне никак не удавалось застать Александра Даниловича на месте – он был в долгосрочной командировке во Франции. И вот я в очередной раз сунулся в канцелярию ректора. Как говорится, на удачу. Вдруг вижу: Александров идет мне навстречу собственной персоной! Он торопился на ученый совет, и я начал рассказывать историю своих злоключений на парадной лестнице, пока мы поднимались с первого этажа в Петровский зал. Надо отдать должное: Александр Данилович слушал внимательно. Он искренне удивился, узнав причину моего изгнания из университета. Переспросил: "Закон об абсолютном и относительном обнищании при капитализме? Что за глупость? Я только что из Парижа, ничего похожего там не видел!"
Александров закончил короткий разговор словами: "Зайдите завтра к первому проректору. Предупрежу".
Действительно, меня приняли как родного, едва не расцеловали. Представляете? Трехминутная беседа на бегу решила судьбу, всё радикально изменила! Проректор спросил: "Ну, где будем учиться?" Я ответил: "На экономическом факультете, разумеется". Нет, отвечает, к сожалению, придется об этом забыть. Декан поставил условие: или Миронов, или я. Воротилова можно было понять: кем бы он выглядел, если бы я вернулся и продолжил учебу? Подрыв авторитета руководителя в глазах студентов и подчиненных!
Я начал размышлять, куда же податься, и не нашел ничего лучше исторического факультета. Кажется, в итоге сделал правильный выбор. Иначе мог всю жизнь заниматься марксистской политэкономией. Страшно представить!

– Так из антимарксиста вы превратились в антиленинца, Борис Николаевич.
– Все же я воюю не с Владимиром Ильичом, а с концепцией революции и трактовкой истории России. Ленина как личность не затрагиваю, он человек бесспорно выдающийся. Но вот со многими взглядами вождя мирового пролетариата согласиться не могу. Он сконструировал псевдомарксистскую теорию о возможности социалистической революции в слаборазвитой стране, которая даст толчок мировой революции. Цель простая: обосновать появление большевизма и оправдать их политику.
– Когда вы поняли, что товарищ Ленин был не прав?
– Не сразу. В 1961 году я восстановился в университете, пришел на истфак и стал думать, какую тему и исторический период выбрать для изучения. Наученный горьким опытом сознавал: чем ближе к современности, тем выше шансы нарваться на новые неприятности. С моим-то темпераментом! Повезло: я попал к профессору Шапиро, который занимался аграрной историей. Александр Львович предложил тему – история цен. Я решил попробовать. Пошел в архив, начал изучать вопрос и… увлекся.
Обратился к восемнадцатому веку, написал сначала дипломную работу, потом кандидатскую диссертацию, защитился в 1969 году. И снова вошел в жесткое противоречие с советской историографией…
– Вы пытались доказать, что умом Россию не понять, но цифрой можно всё измерить?
– Средневековые ученые говорили: числа – мысли Господа. Однако количественный анализ – лишь один из методов, автоматически не гарантирующий достоверность результата. Многое зависит от методологии, того, какие источники используются, как ставится вопрос и формулируется задача. При желании цифры можно подогнать под заранее заданный результат, интерпретировать в нужном ракурсе. Советские историки-клиометрики активно использовали цифры, чтобы доказать, будто при царе трудящиеся беднели, государство было враждебно народу и намеренно держало его в темноте и невежестве (легче управлять!), правительство проводило реформы исключительно в защиту интересов правящего класса, а монархия являлась главным препятствием на пути прогресса, поэтому революции – локомотивы истории – закономерны и необходимы. Но в действительности было совсем по-другому.
Мне нравится работать с цифрами. Они позволяют провести мыслительный эксперимент, разыгрывая ситуацию не в реальности, а в воображении и объясняя, что, как и почему влияет на те или иные события.
– Восстанавливаете причинно-следственные связи?
– Именно! Видимо, натура у меня такая: люблю ясность и четкость. Когда нет определенности, становится тревожно на душе, неспокойно. Если гложет вопрос, на который не могу найти ответ, думаю об этом во сне и наяву. Пока не решу проблему. Поверхностные суждения и спекулятивные размышления, которые нельзя проверить и верифицировать, меня не устраивают, я обязательно должен докопаться до сути. Это касается и повседневной жизни, и науки.
Вот так и получилось, что с самого начала я стал заниматься цифрами, с их помощью подтверждая или опровергая те факты, которые раньше принимались на веру. Например, я полагал, что отмена крепостного права была проведена в ущерб крестьянству. Цифры позволили мне пересмотреть эти и другие ключевые тезисы советской историографии.
Иной раз диву даюсь, листая учебники по истории или многостраничные монографии, где изредка попадаются отдельные цифры и совсем нет сравнительных таблиц. Для значительного числа моих коллег это второсортный материал, без которого можно обойтись. Они любят говорить, что существует три вида лжи: неправда, прямая ложь и, наконец, самая страшная – статистика. Многие предпочитают анализировать события на вербальном уровне, даже когда можно использовать таблицы и количественный анализ.

– Прикидывать на глазок удобнее. Да и простор для вкусовщины безграничный!
– Да, с цифрами спорить труднее. На мой взгляд, они убедительнее любого умозрительного конструирования прошлого и интерпретаций фактов. Все-таки хочется в науке, пусть даже и гуманитарной, избежать элементов беллетристики. Между тем часть коллег, не вступая со мной в прямую полемику, в душе отвергают мысль о мыслительном эксперименте. Для них это что-то странное и не очень понятное. Они считают, что история – наука не для опытов. На мой взгляд, социальные, политические, экономические проблемы можно и нужно изучать с привлечением статистики и массовых источников. После их обработки и получаются те цифры, опираясь на которые можно делать адекватные выводы. В этом методологическая особенность моих работ. В "Российской империи" 383 таблицы. Но я не сухой и фанатичный поклонник цифры – в той же книге 539 иллюстраций (живопись, графика, фотографии), они работают на общее дело: понять, почему и как произошло то, что произошло.
– А титул самого оспариваемого историка России вам льстит или мешает, Борис Николаевич?
– Палка о двух концах. С одной стороны, безусловно, приятно, что работы привлекают внимание профессионального сообщества, что их читают и обсуждают. Каждый человек хочет, чтобы плоды его труда признавались и ценились. В то же время, открывая новые научные книги и статьи, всегда жду, что прилетит камень в мой огород. На конференциях, коллоквиумах, семинарах я частенько оказываюсь под огнем критики и заранее готовлюсь, что придется обороняться или оправдываться. Поначалу мне это давалось с трудом. Все-таки мое становление в профессии пришлось на время, когда считалось, что истина одна. Если публика и общественное мнение с тобой не соглашались, это означало, что не прав именно ты. Не могут же все вокруг ошибаться, правда? Хотя Блез Паскаль еще 350 лет назад сказал примерно так: "Мир сложен, поэтому одной истины всегда мало".
К счастью, к моменту, когда мне стали устраивать разносы, я успел окрепнуть и нарастить мышцы, позволяющие более-менее успешно отражать атаки и не переживать из-за критики.

– Из-за чего так возбудились ваши коллеги?
– Сыграли роль авторское самолюбие, амбиции, конкуренция, ревность, а главное – нежелание маститых представителей старшего поколения и их учеников отказываться от традиционно негативных оценок развития имперской России. Все мы – люди, ничто человеческое нам не чуждо. Атаку в 2002 году начал академик Борис Ананьич. Он опубликовал жестко критическую статью на мои антропометрические штудии в ежегоднике "Экономическая история". Но девятый вал обрушился на меня лет десять назад при обсуждении рукописи, а потом книги "Благосостояние населения и революции в имперской России".
Предыстория такова.
Изданный мною в 1999-м двухтомник "Социальная история России" был встречен на удивление благосклонно. В профессиональном сообществе на него ссылались бесчисленное количество раз и делали это в положительной тональности. Хотя именно там были заложены основные ревизионистские идеи. Не заметили! Объяснение, на мой взгляд, простое: в той работе мне удалось не переступать границы 1913 года.
Но даже тогда я опасался нападок, поэтому, честно говоря, слукавил – не стал выносить "Социальную историю" на обсуждение ученого совета Санкт-Петербургского института истории РАН, где тогда работал. Понимал: шансов пройти без боя мало, боялся, что задробят, не дадут опубликовать. Поэтому двухтомник вышел в свет без институтского грифа. Я предложил рукопись издательству "Дмитрий Буланин". Оно получило грант и напечатало книгу. Первый тираж – полторы тысячи экземпляров, потом – еще две допечатки. Всё разошлось! Меня до сих пор просят прислать хоть том, и рад бы поделиться, да нечем.
– Сколько вы работали над книгой?
– В 1990 году сел за рукопись, а материал стал собирать намного раньше, накапливал постепенно. Это ведь фундаментальное исследование, охватывающее разные стороны жизни российского общества. Колонизация, демография, урбанизация, государственность, преступность, внутрисемейные отношения, социальные структуры, общественное мнение, менталитет и многое другое…
И всё с цифрами и таблицами.
Традиционная история так или иначе строится главным образом вокруг политических событий, общественных движений и течений, я же попытался изучить, чем и как люди жили, во что верили, чем руководствовались в поведении. Но меня интересовал не отдельный человек и его повседневный быт, а большие социальные и профессиональные группы, сословия и классы, процессы, в которые они были включены.
Не хочу обидеть коллег, но большинство их работ – монографии, углубленное изучение одной или нескольких тесно связанных между собой тем. Аналогом в литературе является повесть – последовательное изложение сюжета, ограниченное минимумом сюжетных линий. В них нет панорамы общественной и социальной жизни, хронологической глубины.
– А вы, значит, замахнулись на эпопею?
– Мыслю более скромными категориями и предпочел бы говорить о романе, где много хитросплетений и действующих персонажей. Мне интересны не частности и отдельные эпизоды, а то, как функционирует и почему изменяется социум, общество в целом.
Но, повторяю, в двухтомнике я остановился на пороге Первой мировой войны и революции, дальше сознательно не шел. Мне долго удавалось не пересекать красную черту, а когда нарушил ее, тут-то и возникли крупные проблемы.
Первое же издание книги "Благосостояние населения и революции в имперской России" вызвало в 2010 году бурный протест многих коллег, хотя, подчеркну, не всех. Публику шокировало название и даже обложка, на которую я поместил репродукцию картины Кустодиева с пышногрудой цветущей купчихой, распивающей чай из самовара. Получалось, Миронов говорит о благополучии, хотя историки всегда твердили о кризисе позднеимперской России, утверждая, что к революциям привело крайнее обнищание широких слоев населения, которые не могли дальше терпеть угнетение со стороны царского режима.
Я постарался на фактах разобраться, что же в реальности происходило с уровнем жизни людей. Так я вернулся к проблеме, которой занимался еще студентом.
– Выкладывайте козыри, Борис Николаевич.
– Пожалуйста. Во всех учебниках упоминается, что крестьяне имели долги по налогам, так называемые недоимки. Их суммы непрерывно росли, из чего делался однозначный вывод: люди нищают. По логике, все верно: человек перестает платить, когда не имеет средств. В действительности, было ровно наоборот: крестьяне, как правило, могли погасить задолженности, однако не делали этого сознательно. Зачем платить, если случится очередной юбилей в царской семье или на трон взойдет наследник, тут же проведут налоговую амнистию, недоимки спишут, долги простят? Крестьянин был хоть и не шибко грамотный, но точно не дурак, с трудовой копейкой без крайней нужды расставаться не хотел.
При этом государство не могло объективно оценить материальное положение людей, подоходный налог отсутствовал, чиновничий аппарат не следил за доходами конкретных лиц и целых общин. Этим успешно пользовался народ, давил на слезу, плакался, рассказывая о бедности. Подобные жалобные песни звучали на протяжении веков, общественность и правящий класс слушали их и принимали за чистую монету. Император из сочувствия и для поднятия престижа прощал долги.
– А пролетариат?
– С ним еще интереснее. До середины девятнадцатого столетия русские рабочие жили лучше западных. И реальную зарплату получали выше. У иностранцев, которые приезжали тогда в Россию, глаза на лоб лезли: как так? Объяснение простое: крестьяне не стремились в города и оставляли деревню лишь по сильной нужде. Поэтому на рабочих, особенно квалифицированных, существовал неудовлетворенный спрос, они ценились высоко.
Словом, в своей книге я не только оспорил стандартные аргументы тех, кто считал, что бедность народа спровоцировала революцию, но и применил новую методологию оценки, использовал данные о… – не удивляйтесь! – росте и весе населения. По сути, это первое в мировой историографии исследование по исторической антропометрии России. У меня есть статистика за двести лет. Начиная с восемнадцатого века.
В биологии человека установлена зависимость, которую принимают экономисты: если падает качество жизни, снижается средний рост и вес людей в пределах одного поколения. В восемнадцатом веке мужчины стали ниже примерно на пять сантиметров. При Петре I рост был около 165 сантиметров, а при Павле I – только 160. Потом начался подъем, и к 1915 году среднестатистический русский новобранец подрос до 169 сантиметров. В армию призывали в первую очередь крестьян, значит, уровень жизни повышался и на селе. О своих находках я заговорил в 1999 году в первом издании "Социальной истории". Мне казалось, что найден железный аргумент. Не тут-то было! До сих пор большинство коллег не принимают историческую антропометрию, кто-то из оппонентов даже окрестил меня лжеисториком.
"Благосостояние населения и революции в имперской России" не утвердили на ученом совете в СПбИИ РАН в моем родном Петербурге, не дав книге институтский гриф. Поддержку я получил в Москве у директора Института российской истории РАН Александра Сахарова.
– Рост и вес – не единственный аргумент, к которому вы апеллировали?
– Нет, конечно. Я использовал и традиционные показатели – сведения о заработной плате, доходах и налогах, ценах и их динамике, смертности, продолжительности жизни… А антропометрия шла в качестве важного дополнительно аргумента.

– Можно ли в итоге сказать, что обе революции 1917 года случились не благодаря, а вопреки? И если да, кого за это надо "благодарить"?
– Не было такого, чтобы "низы не хотели, а верхи не могли", качество жизни не снижалось, наоборот, на протяжении всего пореформенного времени, начиная с отмены крепостного права, наблюдался рост, положительная динамика, царское правительство проводило реформы, способствовавшие развитию экономики, культуры, повышению уровня жизни и совершенствованию политической системы.
Иногда мои критики передергивают, заявляя, будто я рисую царскую Россию на рубеже двадцатого века как рай земной. Это не так. В то время в Европе и мире никто не благоденствовал, но в нашей стране тренд, повторяю, шел в сторону не деградации, а улучшения. Причем систематического. Если проанализировать цифры и посмотреть на них непредвзятым взглядом, будет видно, что государство занималось социальными вопросами, в меру возможностей заботилось о гражданах. После реформ средняя продолжительность жизни увеличилась с 27 до 36 лет, грамотность населения – с 17 до 40 процентов, реальная зарплата сельскохозяйственных рабочих выросла в 3,8 раза, промышленных рабочих – в 1,4 раза, число вкладчиков в банки увеличилось в 159 раз… В 1913 году вклады имели около 4,3 миллиона семей, или 26 миллиона человек, – 21 процент жителей европейской части России! Крестьяне купили 27 миллионов гектаров земли – больше территории Великобритании, заплатив огромные деньги – 971 миллион рублей. При этом, напомню, недоимки росли, пока очередным манифестом царь не прощал долги.
Повышался биржевой курс акций русских компаний, признаки кризиса не просматривались ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве, ни в транспорте. Казалось бы, бесспорные факты, но многим моим коллегам по-прежнему не нравится, что выводами о положении дел в Российской империи в пореформенную эпоху я опровергаю тезис, будто государство всегда враждебно обществу и думает лишь о корыстных интересах правящего класса, оставляя народ объектом эксплуатации.
Ничего подобного не наблюдалось, государство не являлось тормозом для развития, наоборот – оно способствовало ему, было лидером модернизации. Словом, традиционная концепция о причинах революции в данном случае не работает, она ничего не объясняет.
– Тогда почему грянула буря?
– Главным образом, это результат борьбы за власть между разными группами элит. Наиболее активная часть интеллигенции была уверена, что вполне созрела для большего участия в госуправлении и может гораздо успешнее руководить обществом, чем монархия. В борьбе за власть использовались все средства, в том числе и террор, и пиар. Блестящая PR-активность противников монархии, а после февраля 1917-го – Временного правительства стала важнейшим фактором революции. В целом оппозиция оказалась искусней и успешней, выиграв информационную войну. С помощью четкого и продуманного общения с властями, поддержания связей с различными социальными группами и умелой манипуляции общественным мнением она создала ощущение экономического и политического кризиса в стране, подготовив почву для революции, завоевания сердец и умов людей, чтобы в решающий момент вывести народ на улицы, воспользовавшись недовольством, вызванным Первой мировой.
Хочу оспорить еще один тезис: якобы война послужила главной причиной революции в России. Полная ерунда! Конечно, много людей погибли, получили ранения на фронтах, в народе накопилась усталость, но главные проблемы начались именно после февральского переворота. Либерально-демократическая оппозиция, которая заварила кашу, оказалась не готова к тому, чтобы проводить адекватную обстоятельствам политику и нести ответственность за страну. Милюков, Керенский и прочие господа обвиняли в трусости и слабости Николая, но сами, придя к власти, повели себя еще хуже. Временное правительство решило во время войны проводить демократические преобразования, привлекая широкие "общественные силы" для решения государственных задач. Однако вследствие поспешных преобразований всех царских учреждений и многочисленных кадровых перестановок была парализована или затруднена работа государственных и частных служб, промышленных предприятий, транспорта, судов и органов охраны правопорядка. Наступил тотальный институциональный кризис. В результате за восемь месяцев был нанесен сокрушительный удар по экономике, уровню жизни, эффективности управления; началась анархия, развалилась армия, выросла преступность. Тяжелейшая ситуация, сложившаяся в стране, привела к новому взрыву революционных страстей и породила октябрьское восстание – слишком уж очевидным оказалось несоответствие между действительностью и ожиданиями от свержения монархии.
Большевики умело воспользовались моментом, хотя до февраля даже Ленин не верил, что доживет до революции. В отличие от кадетов и прочих слюнтяев они сумели не только захватить, но и удержать власть, которая валялась под ногами. Это повлекло за собой позорный выход из Первой мировой и спровоцировало гражданскую войну. Но большевикам удалось железной рукой восстановить общественный порядок. При этом они имели поддержку лишь в крупных городах, среди рабочих, провинцию революционная волна долго не затрагивала, там люди жили иными заботами.

– Вернемся к вашей книге, Борис Николаевич. Где рассчитываете вербовать союзников?
– Да они сами потихоньку подтягиваются. В постсоветской российской историографии, впрочем, как и в зарубежной, заметен тренд в сторону пересмотра негативной точки зрения на состояние российского социума в позднеимперский период. Поскольку опросов среди историков не производилось, нельзя точно сказать, каков процент пессимистов, но то, что оптимистическая точка зрения набирает силу, не вызывает сомнений. В отечественной историографии явно формируется новая объективно-позитивная парадигма.
Проблема в другом. Многие командные высоты в исторической науке по-прежнему удерживают люди, которые писали основные работы по марксистским канонам, получали за них премии, степени и звания. Очевидно, они верили в то, что говорили и делали. К счастью, не все. Например, руководство Отделения исторических и филологических наук поддерживает дискуссии по ключевым проблемам истории, поэтому мой ответ на критику Бориса Ананьича увидел свет в 2006 году. В марте 2017го меня пригласили докладчиком на научную сессию Общего собрания РАН "Великая российская революция 1917 года и ее отражение в науке, культуре, исторической памяти".
Когда-то я по наивности думал, что после перестройки мои маститые коллеги достанут из потайных мест рукописи, которые приходилось скрывать от советской власти. Но этого не произошло. Практически все так и остались при прежнем капитале.
– А вы предлагаете от него отказаться.
– Нет, но призываю не ограниваться лишь марксистским кругозором. Есть и другие концепции. Надо расширять рамки вместо того, чтобы искусственно их сужать.
– Ширина разной бывает. Вас не удивляет, что к столетию Октября отечественный кинематограф разродился "Матильдой" Алексея Учителя, а самой обсуждаемой книгой стала "Империя должна умереть. История русских революций" Михаила Зыгаря? Ничего достойнее не нашлось?
– Честно говоря, книга Зыгаря написана слабо не только содержательно, но даже стилистически. Она напоминает разрозненные выписки жареных сведений из исторических трудов, мемуаров, дневников, писем современников. Между ними трудно найти связь, но они тем не менее доказывают, что империя катилась в пропасть и ничто ее спасти не могло. Мало свалить в кучу множество сведений, надо еще их систематически осмыслить и понять. Этого в "Империи" нет. Раздражают надуманные привязки событий столетней давности ко дню сегодняшнему, попытки проводить искусственные параллели между персонажами и событиями. Там – Савва Морозов, здесь – Михаил Ходорковский, там – демонстрации рабочих, тут – митинги на Болотной площади… Для ненаучного ума это может быть забавно и любопытно, но профессионалы едва ли будут всерьез рассматривать написанное Зыгарем и его командой. Занимательное развлекательное чтиво на девятьсот страниц для читающей публики, жаждущей сенсаций. Но с подтекстом, дескать, вот что ожидает современную Россию, если ее руководство будет проводить политику Николая II, которая, кстати, трактуется совсем неадекватно.
Не надо только запрещать и осуждать книгу. Любопытные непрофессионалы скоро устанут читать пространное сочинение, а профессионалы закроют "Империю" после первых нескольких страниц.
Что касается "Матильды", никакой это не исторический биографический фильм, а пышный костюмированный галантный спектакль с участием псевдореальных персонажей. Хотя есть и вымышленные. Если бы не шумиха, поднятая из-за причисленного к лику святых Николая, "Матильда" не получила бы столько внимания от прессы и критики. В стране много любителей подобных романтических "постельных" фильмов. Они и были бы главными зрителями, обсуждая фильм за чашкой кофе и бокалом вина.
Поднятый скандал сработал на раскрутку "Матильды".
– Не обидно, Борис Николаевич, что дымовая завеса скрывает от взглядов публики то, что по-настоящему заслуживает внимания? Взять хотя бы вашу книгу.
– Так скажу. Есть наука, беллетристика, коммерческое кино, конъюнктурная публицистика и развлекательная научно-популярная литература. Все имеет свою нишу. Я занимаюсь фундаментальными исследованиями, они нацелены на вечное и важное. Мода и конъюнктура изменяются, а настоящие ценности остаются.
В этом смысле мне торопиться некуда…